родительский книжный клуб
Maria Montessori speaks
to parents
to parents
«Ребёнок, который почувствовал сильную любовь к окружающему миру и всем живым существам, который открыл для себя радость и энтузиазм в работе, даёт нам основания надеяться, что человечество может развиваться в новом направлении».
Мария Монтессори
Мария Монтессори
- Добрый день, дорогие родители!Хочу представиться. Ведь с кем-то из вас я еще не знакома, но буду очень рада познакомиться. Меня зовут Светлана Чашникова, я основатель Монтессори школы Grata.
Со многими мы прошли длинный путь. И сделали немало открытий!
Находясь вдалеке от школы я подумала, как я могу построить общение с вами и как я могу быть вам полезна?
Весной мне на глаза попалась одна книга, которую я привезла из Нидерландов с конференции AMI. Она то и навела меня на мысль.
Эта книга небольшой сборник статей, которые были найдены в архиве Марии Монтессори, никогда не были опубликованы и уже в наше время были представлены широкому кругу читателей.
Статьи в этой книге были адресованы родителям.
Их ровно 11: "Какая прекрасная идея! 1 статья в месяц:), а про август посмотрим:)", подумала я, решила сделать перевод и поделиться с вами.
Как вам кажется?:) Я думаю, отличный повод для общения.
Буду публиковать каждый первый четверг месяца по одной статье. Это всего лишь 2-4 страницы, но каких важных и глубоких мыслей о детях!
А еще я подумала, что если вы захотите поговорить о том, что пишет Доктор Монтессори, то я с радостью открою такой привычный мне Zoom, и буду готова с вами поговорить о ваших "Ага-моментах" за чашечкой кофе!
Давайте начнем с небольшой справочной информации об издательстве, которое опубликовало эти статьи.
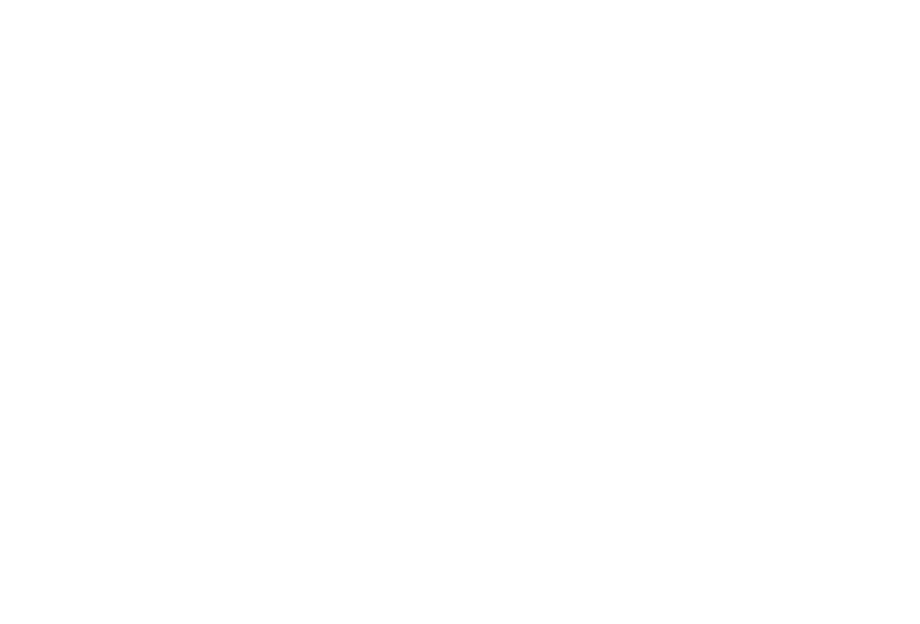
Издательство «Монтессори-Пирсон» (The Montessori-Pierson Publishing Company/MPPC) издаёт и распространяет во всем мире книги и ранее не публиковавшиеся произведения Марии Монтессори.
Оно было основано в 2006 году и объединило правнуков Марии Монтессори, которые своей миссией видели поддержание, распространение и развитие педагогических принципов и практик, сформулированных их прабабушкой. (???)
Помимо книг благодаря совместной работе издателей и ученых, изучающих труды Монтессори были опубликованы многие работы из её архивов. Таким образом, рукописные записи и дневники Монтессори стали доступны читателям.
Издательство расположенно в Нидерландах и доставляет книги по всему миру. Часть этих книг переведена на русский язык, многие еще предстоит перевести.
Но если вы захотите прочитать эти книги на английском, испанском, ... языке, вы можете найти их на сайте издательства: https://montessori-pierson.com, и написать мне, а я подскажу, как как это сделать.
В нашей школьной библиотеке ...
Итак, к сборнику статей!
Оно было основано в 2006 году и объединило правнуков Марии Монтессори, которые своей миссией видели поддержание, распространение и развитие педагогических принципов и практик, сформулированных их прабабушкой. (???)
Помимо книг благодаря совместной работе издателей и ученых, изучающих труды Монтессори были опубликованы многие работы из её архивов. Таким образом, рукописные записи и дневники Монтессори стали доступны читателям.
Издательство расположенно в Нидерландах и доставляет книги по всему миру. Часть этих книг переведена на русский язык, многие еще предстоит перевести.
Но если вы захотите прочитать эти книги на английском, испанском, ... языке, вы можете найти их на сайте издательства: https://montessori-pierson.com, и написать мне, а я подскажу, как как это сделать.
В нашей школьной библиотеке ...
Итак, к сборнику статей!
Мария Монтессори прекрасно понимала роль родителей и их потребность в более ясном понимании её идей. Поэтому она время от времени читала лекции родителям во время своих обучающих курсов и конгрессов. К сожалению, отдельной книги для родителей специально издано не было.
....
....
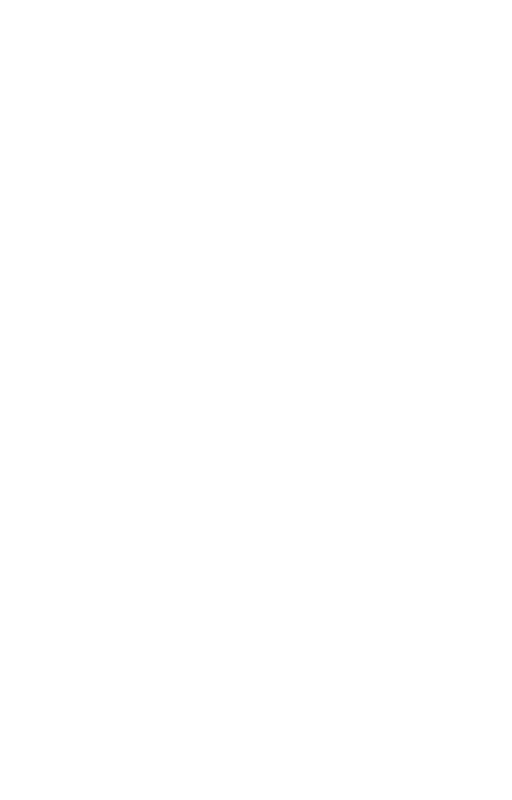
Глава 1
Среда для ребёнка
Это была великая женщина, Эллен Кей, которая предсказала, что двадцатый век будет веком ребёнка. В конце девятнадцатого века началась новая эра позитивной науки: гигиена и психология вошли в школу, детей начали изучать с новых точек зрения, и среди важных выводов стало открытие того, что дети были жертвами несчастья и страдали во многих отношениях от своей работы.
И всё же конструктивная работа, которая должна была возникнуть из этого движения ради помощи ребёнку, ещё не дала ощутимых результатов, хотя были предприняты усилия по улучшению школы. Странно, но глубина самой проблемы до конца так и не была осознана: те беды, на которые указывала новая наука, хоть и пытались решать разными способами, но они так и не были искоренены.
Самые достойные похвалы усилия были направлены на уменьшение умственного утомления, проводились занятия на открытом воздухе, игры, смягчались наказания и применялось более приятное обучение. Люди объединялись, чтобы справиться с ситуацией: учителя обращались к родителям, ко всему миру, чтобы вызвать интерес к научному образованию. Но все принимали как должное, что учёба в школе, какой бы научной ни была методика преподавания, означала подчинение ребёнка системе, в которой он будет страдать, хотя считалось, что это для его же блага.
Должны ли мы и вправду принимать как данность любое образование, связанное со страданием? Быть может, мы — педагоги и родители — идём вместе, движимые любовью, по замкнутому пути без выхода. Может быть, нам следует развернуться и пойти по другому пути.
---
Существует анекдот о короле, который хотел реформировать своё королевство. Он призвал своих советников, и один, который был мудрее других, сказал: «Сначала вы должны реформировать самих себя — вас и ваш двор». В этой параллели место мудреца сегодня занимает ребёнок, потому что именно он — действующее лицо этой проблемы. Великие беды не решаются устранением коллективной ошибки. Взять, к примеру, эмансипацию женщины: дело не только в том, чтобы дать ей несколько прав, но в признании в ней полноценной личности, полной жизненной силы, способной внести значительный вклад в прогресс человечества.
Что касается социальной проблемы ребёнка, ошибки связаны с фундаментальной заблуждением. Это вопрос о реформировании самих реформаторов: нам всем нужно измениться. Мы — взрослые, и ребёнок зависит от нас; его страдания, несмотря на наши добрые намерения, исходят от нас. Если по нашей ошибке возникают эти беды, необходимо реформировать отношение взрослого.
Например, сейчас мы убеждены, что необходимо влиять на ребёнка, чтобы он стал мудрым человеком, полезным гражданином, чтобы он обладал образованным умом. Мы думаем, что должны быть его создателями, что без нас он не вырастет. Мы чувствуем тяжесть ответственности и уверены, что именно мы — взрослые — должны формировать характер ребёнка. Для нас проблема лишь в выборе лёгкого или трудного пути к этой цели.
Но основной вопрос даже не обсуждается, он часто не осознаётся: взрослый должен понять, что он чаще всего не достигает успеха в том, в чем намеревается. Ему нужно изменить своё отношение. Мы, взрослые, должны принять новую роль — мы должны понять, что вместо помощи ребёнку мы мешаем ему, если пытаемся лепить его таким прямым способом.
Взрослый и ребёнок работают совершенно по-разному. Взрослый воздействует на среду и преобразует её, чтобы она соответствовала в итоге его целям. Ребёнок работает, чтобы стать человеком: внутренние силы толкают его к постоянной деятельности, и он шаг за шагом приобретает зрелые черты. Но мы не осознаём этого его стремления, и именно потому, что не признаём его, мы ставим преграды. Эти препятствия двух видов:
1) ребёнок, слабый по отношению ко взрослому, но обладающий сильной созидательной энергией, нуждается в собственной среде, но получает только взрослую, не приспособленную к его размерам;
2) этот бедный ребёнок вынужден бороться со взрослым, который не понимает, какое дело его занимает, и мешает ему на каждом шагу.
Нельзя сказать, что подходящая среда для ребёнка — это школа, где его заставляют сидеть неподвижно, когда он полон энергии; и не дом, где его окружает «иди, стой, не трогай». Таким образом, конфликт возникает и дома, и в школе, и с учителями, и с родителями. Мы полны любви, но в нашем поведении есть бессознательные ошибки.
Посмотрим хотя бы на школу, которая является настоящим «Домом ребёнка», где дети — хозяева своего дома. Мы должны помнить это небольшое, но глубоко значимое различие, когда входим в комнату, где они работают. Эти дети не должны рассматриваться так же, как в других школах, где проверяют, как они учатся, понимают ли они и дисциплинированы ли они. Напротив, мы должны научиться важнейшему: уважать ребёнка.
Вы можете сказать, что умеете его уважать — но, возможно, только в теоретическом или нравственном смысле. Я же говорю буквально: детей нужно уважать как социальных личностей высшего порядка. Например, мы считаем естественным, войдя в класс, спросить: «Что ты делаешь?» или «Почему ты это сделал?» Но ребёнок часто не может нам ответить.
Такая поспешная проверка — это не признак уважения. Мы делаем это потому, что считаем, что личность ребёнка находится на более низком уровне. Мы ошибаемся. Мы обращаемся с детьми как с объектами, приказываем, заставляем их вписываться в наш мир без малейшего учёта их собственной жизни. Создавая подходящую среду для ребёнка, наш первый урок — наблюдать. Учителям, приходящим в Дом ребёнка, мы говорим: «Наблюдайте, молчите, не обращайтесь к детям, не шумите. Здесь дети живут в своём собственном мире. Вам необходимо наблюдать, просто направив свой объективный взор на ребенка, не делая никаких выводов, не высказываю суждений, не исправляя и не наставляя. Только таким образом вы сможете обратиться к духу ребенка и понять задачу взрослого».
---
Те, кто утверждают, что мы должны держать ребёнка в слепом повиновении, что мы имеем право исправлять его, и что в результате он станет умным и воспитанным, обманываются. Реакцией ребенка на такое отношение является защита: например, он становится робким и ленивым, потому что не может действовать; он лжёт, чтобы избежать наказания; он капризничает, потому что ему мешают сосредоточиться. Взрослый всё больше и больше исправляет, и начинается первая война — между ребёнком и взрослым.
Но как только взрослый перестаёт подавлять ребёнка, ребенок проявляет иные черты — глубокие свойства духовного существа. Мы видим качества, которых раньше не знали, настолько удивительные, что их можно назвать чудесными. И всё это проявляется только потому, что взрослый прекратил отрицательные действия. Для ребёнка это положительно, для взрослого — отрицательно. Например, ребёнок начинает длительную работу: из капризного и эгоистичного он становится энергичным и щедрым. Удивительно наблюдать, с какой радостью он трудится, когда получает свободу и подходящие предметы для удовлетворения своей потребности в деятельности.
---
Я наблюдала за ребёнком в работе много лет и создала для него в школе новый мир для его активности. В школьной среде он находит предметы, которые легко брать в руки, маленькие стулья и столы, с которыми он может сам управляться, материалы, удовлетворяющие его внутреннее стремление к труду, развивающие его инициативу.
В доме идеальная среда для ребёнка тоже должна включать мебель и посуду, которые он может использовать сам, которые ему по размеру. Это не всегда возможно, но взрослый хотя бы может дать ребёнку подходящую духовную атмосферу. Взрослый не должен вмешиваться, не должен действовать вместо ребёнка. Дайте ему средства и позвольте действовать: его свобода в этом.
Каждому учителю и каждому родителю я говорю: нужно не наставничество, а смирение и простота в обращении с детьми. Их жизнь свежа, без соперничества и внешних амбиций. Нужно так мало, чтобы сделать их счастливыми, — дать им работать своим путём на пути естественного становления тем человеком, мужчиной или женщиной, кем ему суждено стать. Великая польза, которую мы можем дать детству, — это упражнение в сдержанности самих себя.
Человек строится исключительно из ребенка.
